
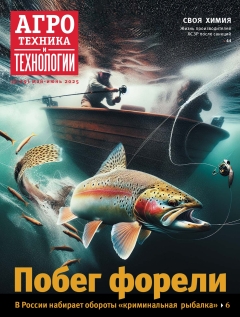
Журнал «Агротехника и технологии»
Аквакультурная отрасль, которая в нашей стране устойчиво, хорошими темпами росла с 2019 года, в прошлом году резко пошла на спад. Причина такого падения комплексная и включает ряд факторов. Об основных отраслевых проблемах журналу «Агротехника и технологии» рассказали эксперты на конференции «Российский рынок рыбных кормов в 2025 году — дефицит проверенных решений в условиях широчайшего выбора»
2022 год стал для российской аквакультурной отрасли настоящим ударом: в один момент рынок покинули иностранные поставщики комбикормов, от которых отечественные рыбоводы зависели, согласно данным Рыбного союза, на 90%. Хозяйствам пришлось обратиться к отечественным кормам, чья репутация была довольно невысокой. С тех пор прошло три года, и, как единогласно отмечают эксперты, качество российских кормов у ведущих заводов однозначно повысилось и стало стабильным.
«Я сам не только региональный представитель производителей кормов, но и рыбовод, — говорит Михаил Ульянов, региональный представитель компании «Сиббиоресурс» в Карелии. — Конечно, за последние пять лет ситуация с отечественными кормами поменялась в корне. Качество улучшается, они становятся конкурентными. По крайней мере, рыбоводы, пробующие пользоваться отечественными кормами, убеждаются в их добротности. Безусловно, есть те, кто “сидит” на импортных кормах и верит, что они лучше. Однако количество сторонников российских кормов увеличивается, поскольку цены на европейские корма растут, а качество падает».
Того же мнения придерживается и Роман Артёмов, директор департамента прикладных исследований комбикормов и научного сопровождения производства ФНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО». «На мой взгляд, самое страшное уже позади, — рассказывает эксперт. — Стереотип, который был сформирован до 2022 года, постепенно меняется. Прежде всего, это обусловлено тем, что основные импортные производители ушли с рынка, а качество отечественных комбикормов уверенно устремилось вверх. Основная причина — серьёзная конкуренция на рынке. Кроме того, в течение последних двух лет сложилась новая практика применения кормов. Первоначально выбора объективно не было, но со временем каждый рыбовод выбрал для себя завод, с которым комфортно работать, а многие заказывают корм сразу у нескольких производителей, желая себя обезопасить. И, надо сказать, результаты отечественные хозяйства устраивают».
Однако линейка российских кормов пока остаётся узкой, признают специалисты: заводы научились делать хорошие основные комбикорма с конкурентными кормовыми показателями, но на рынке нет ни антистресс-кормов, ни профилактических, ни лечебных, которые содержали бы лекарственные компоненты и помогали бы противостоять болезням. Именно благодаря широкой линейке зарубежных качественных кормов, подчёркивают участники отрасли, аквакультурная отрасль устойчиво росла до 2022 года. Но смогут ли многочисленные запускаемые сегодня в нашей стране комбикормовые проекты восполнить недостаток предложения?
Впрочем, аквакультурная отрасль держится не только на кормах (их нехватка — только одна из проблем). Не меньшие трудности отрасль испытывает с маточными стадами, большинство которых не отвечает современным запросам рыбоводов. Также значительную проблему сегодня составляет рыбопосадочный материал, качество которого в 2024 году показало неутешительные результаты. Вдобавок ко всему добавляется замалчивание печальной ветеринарной обстановки в рыбоводстве на уровнях и хозяйств, и регионов, делающее невозможной разработку отечественных вакцин для рыбных стад на замену пропавшим с рынка импортным. Тем временем, объёмы производства аквакультуры в стране и, прежде всего, в лидирующих в производстве лососёвых регионах, сокращаются, что констатирует Росрыболовство и отраслевые союзы. На это накладываются нашумевшие истории с побегами форели из садковых хозяйств, влекущие за собой крупные убытки рыбоводов.

Корма: новые проекты
На рынке комбикормов для аквакультуры в последние годы появляется множество новых проектов, говорит Роман Артёмов. Условно их можно разделить на три типа, рассказывает он: проекты крупных компаний (таких как «Инарктика», которая создаёт свой завод по производству кормов), проекты от уже действующих комбикормовых заводов, и проекты от людей, которые намерены войти в эту отрасль. Безусловно, предприятия первого типа находятся в более выигрышном положении, ведь у них есть компетенции по производству комбикормов и собственная сбытовая сеть. «Находясь в подобных условиях не построить завод на 60 тысяч тонн было бы преступлением против своего бизнеса, — замечает эксперт. — Однако когда мы говорим в целом о проблемах проектов, то такие крупные предприятия остаются вне статистики».
У второго типа проектов, продолжает эксперт, также есть и компетенции, и кадры. Сбыт тоже перспективен. Обладая компетенциями, завод понимает, сколько он может поставить на рынок комбикормов дополнительно, на какой объём есть запрос.
А вот третий тип компаний вызывает вопросы. «Нередко слышу мнение: “решил войти в аквакультуру, попробовал выращивать, не получилось, и решил заняться более простым делом — производить комбикорма”, — делится Роман Артёмов. — В таких случаях людям нужно объяснять, что такое комбикорма, логистика, контроль качества, что должна быть лаборатория. Ведь нужно понимать, сколько производить кормов: 20 тонн — одна история, 1000 тонн со стабильным качеством — другая. Тем не менее, находятся Д’Артаньяны, считающие конъюнктуру рынка слишком заманчивой и решающиеся вкладывать деньги и силы в этот проект. Вот они как раз и сталкиваются с названными мной факторами. Поэтому я весьма скептически отношусь к новым заводам. Безусловно, есть серьёзные проекты, которые реализуются компетентными людьми, но есть и ряд примеров, заранее обречённые на провал».
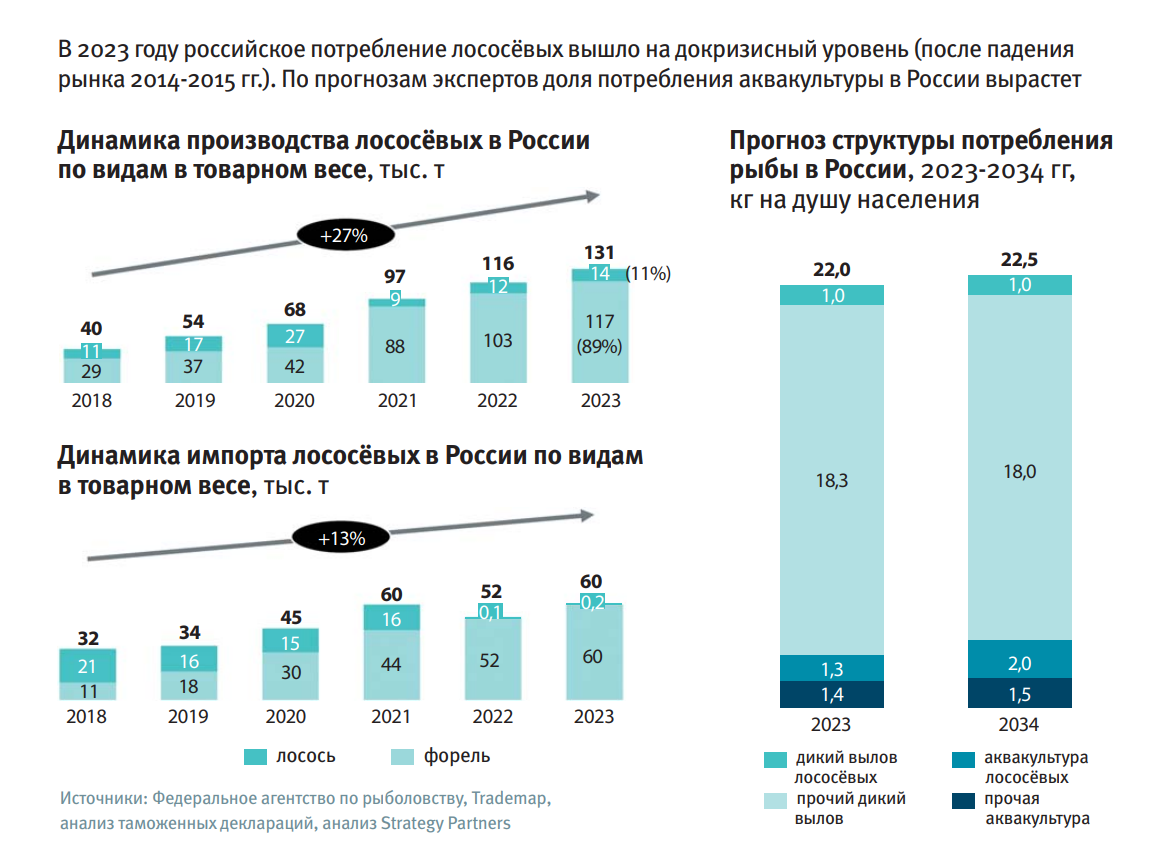
Первая трудность, с которой сталкиваются новые проекты — это кадры, которых попросту нет, отмечает эксперт. Даже если перекупить технолога из другой компании, проблемы это не решит, поскольку для полноценной работы нужна и остальная команда: логисты, опытные менеджеры. Кроме того, необходимо общее понимание процесса, которого недостаёт многим бизнесменам.
Следующая проблема (и она ключевая) — отсутствие проверенной линейки продукции. По словам Романа Артёмова, рецептуры сегодня собираются кустарным способом и испытываются в знакомых хозяйствах. В результате люди начинают верить, будто располагают хорошим решением для отрасли (и готовы его продать), но это большое заблуждение, предупреждает эксперт. «Как правило, в таких случаях срабатывает фактор первых 50-100 тонн комбикорма, — объясняет он. — Ты напрягся, проконтролировал качество целой партии кормовых ингредиентов и выпустил какой-то удобоваримый корм — и на нём, просто по стечению обстоятельств, рыба не умерла. Однако при первом же повышении объёмов производства всё начинает пикировать».
Помимо этого, у новых проектов такого типа не бывает научно-технического центра. «Об этом вообще никто не думает. Проблема вскрывается на стадии, когда завод построен, владельцы окунулись в суть и поняли, что кадров нет, и организации нужен лидер с пониманием, в какую сторону двигаться, какие рецептуры дорабатывать, где брать новое сырьё и так далее. Только тогда приходит осознание необходимости своего собственного научно-технического центра и коллаборации с компетентной компанией», — говорит Роман Артёмов.
В продолжение этой темы, Денис Янков, начальник отдела продаж экструдированных кормов ГК «Мелком» поделился опытом своей компании. «В 2022 году собственниками было принято решение о том, что без научной составляющей нам двигаться дальше совершенно невозможно, — рассказал специалист. — Проблема встала очень остро: с рынка резко ушли иностранные поставщики, а наших знаний для дальнейшего развития компании не хватало. Результатом стало подписание лицензионного соглашения с ВНИРО о производстве рецептур, которое мы позже расширили. Подключение лаборатории позволило выявлять гораздо больше контрафакта: каждая третья-четвёртая машина рыбной муки на предприятии теперь не принимается из-за несоответствия составу, прописанному на бумаге. Все производители комбикормов сегодня стараются работать с серьёзными поставщиками, количество контрафакта сокращается. И всё-таки остаётся открытым вопрос: куда уезжает контрафакт, который мы не берём?».
Ответ на этот вопрос, адресованный органам власти, хотят получить многие участники рынка.
Последние две проблемы — закредитованность и неоправданные ожидания — дополняют друг друга, говорит Роман Артёмов. По его мнению, их можно назвать основным риском, который способен поставить на грань банкротства любой новый выходящий на рынок комбикормовый завод. Ведь на выведение производства на уровень рентабельности уходит не менее двух лет, сарафанное радио начинает работать нескоро, а кредиты нужно платить уже сейчас.
Тем не менее, нередко ещё только возводящиеся заводы довольно быстро попадают в региональную статистику, на основе которой ведомства строят официальные прогнозы по общероссийскому выпуску комбикормов. Но запустятся ли они? Будут ли работать на полную мощность? Это большой вопрос, считают эксперты отрасли.
«Что ожидает отрасль комбикормов? — задаётся вопросом Роман Артёмов. — Уже сегодня разыгрывается невероятная конкуренция. Мы понимаем: будет настоящая битва за кормовые компоненты, и прежде всего за кормовую рыбную муку, за рыбный жир — ведь этот ресурс весьма ограничен. Например, уже сейчас есть сложности с поиском высокопротеиновой муки, а что будет, если отрасль прирастёт в два раза, когда мы будем выпускать 190 тыс. тонн кормов? Проблема только увеличится. Без альтернативных источников сырья, без альтернативного научного поиска, который даст возможность работать также и с растительным сырьём, конкурировать будет очень сложно».
Что же касается качества, то эксперт уверен: будущее за заводами, которые уже сегодня думают о стабильности, о том, чтобы предоставлять рыбоводам услуги высокого уровня. Главенствующая роль будет принадлежать предприятиям, умеющим работать комплексно по разным фронтам, в связке с научными организациями или развивая свои научно-технические центры. Задача — обеспечить стабильность выпускаемого корма в серьёзных объёмах: 35, 40, 50 тыс. тонн. Это означает смену всей логистики, поставок кормовых ингредиентов, другие объёмы закупок, другие оборотные средства. Такие компетенции объективно ещё предстоит получить.
Главный же вызов — специализированные корма. «У кого будет полная линейка инструментов для рыбовода, включая стартовые, продукционные, профилактические и лечебные корма, тот и победит. Сегодня в России нет механизмов создания лечебных комбикормов, нет нормальных лекарственных препаратов, которые можно вводить в состав комбикорма, чтобы дать рыбоводу рабочее решение. Но рано или поздно это произойдёт», — уверен эксперт.

Однако мощности будут загружены только тогда, когда в стране произойдёт устойчивый рост аквакультуры, считает Роман Артёмов. А сейчас, напротив, виден спад, в котором отчасти виновата и комбикормовая промышленность. «Мы не дали специализированные корма, не дали рыбоводу инструмент, позволяющий противостоять внешним факторам выращивания рыбы. Научимся делать специализированные комбикорма с понятным прогнозируемым эффектом — получим рост объёмов аквакультуры в нашей стране».
Маточные стада: российские или импортные?
Россия закупает за границей довольно большой объём икры для аквакультуры. Почему так происходит несмотря на то, что поголовье официально зарегистрированных российских маточных стад, казалось бы, способно обеспечить этой продукцией хозяйства? Алексей Мышкин, руководитель филиала по пресноводному рыбному хозяйству ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО», утверждает, что большая часть икры от маточных стад попросту солится и продаётся. При этом с генетикой ситуация складывается тоже не самым лучшим образом. Дело в том, что генетические качества стад, хотя и несколько модернизировались со временем, разрабатывались ещё в советские годы, а в то время селекция, в основном, шла по породному пути и была рассчитана на «порционку», особенно в южных регионах, объясняет Мышкин. Но сегодня требования к генетике изменились очень сильно, и если сравнить характеристики рыбы, полученной от российских маточных стад, с иностранными кроссами, то можно увидеть, что первые проигрывают и по скорости роста, и по кормовому коэффициенту, констатирует эксперт. Поэтому спрос на импортную икру намного превышает количество приобретаемой отечественной.
Многие компании — и крупные, и небольшие, стремясь обеспечить себя икрой и посадочным материалом, планируют строить в России собственные генетические или селекционные центры, племенные хозяйства, обзаводиться своими маточными стадами. Однако такие планы трудновыполнимы, предупреждает Алексей Мышкин. «Дело в том, что импортная аквакультурная икра, заходящая в Россию, в основном, однополая (или же это межсемейные кроссы, не вполне подходящие для формирования маточных стад). Тогда как для формирования нормального маточного стада нужно создавать маточное ядро, состоящее из, как минимум, 150 семей», — объясняет эксперт, добавляя, что если мы говорим про заграничные методики, то должны понимать, что все кроссы, которые идут к нам, представляют собой результат скрещивания именно семейных маточных стад, подобранных с определёнными характеристиками. Кроме того, нельзя забывать, что селекция и подбор производителей ведётся по генным маркерам полезных хозяйственных признаков. А настолько сложную работу на сегодняшний день могут себе позволить лишь очень крупные компании, такие как «Инарктика», замечает Мышкин.
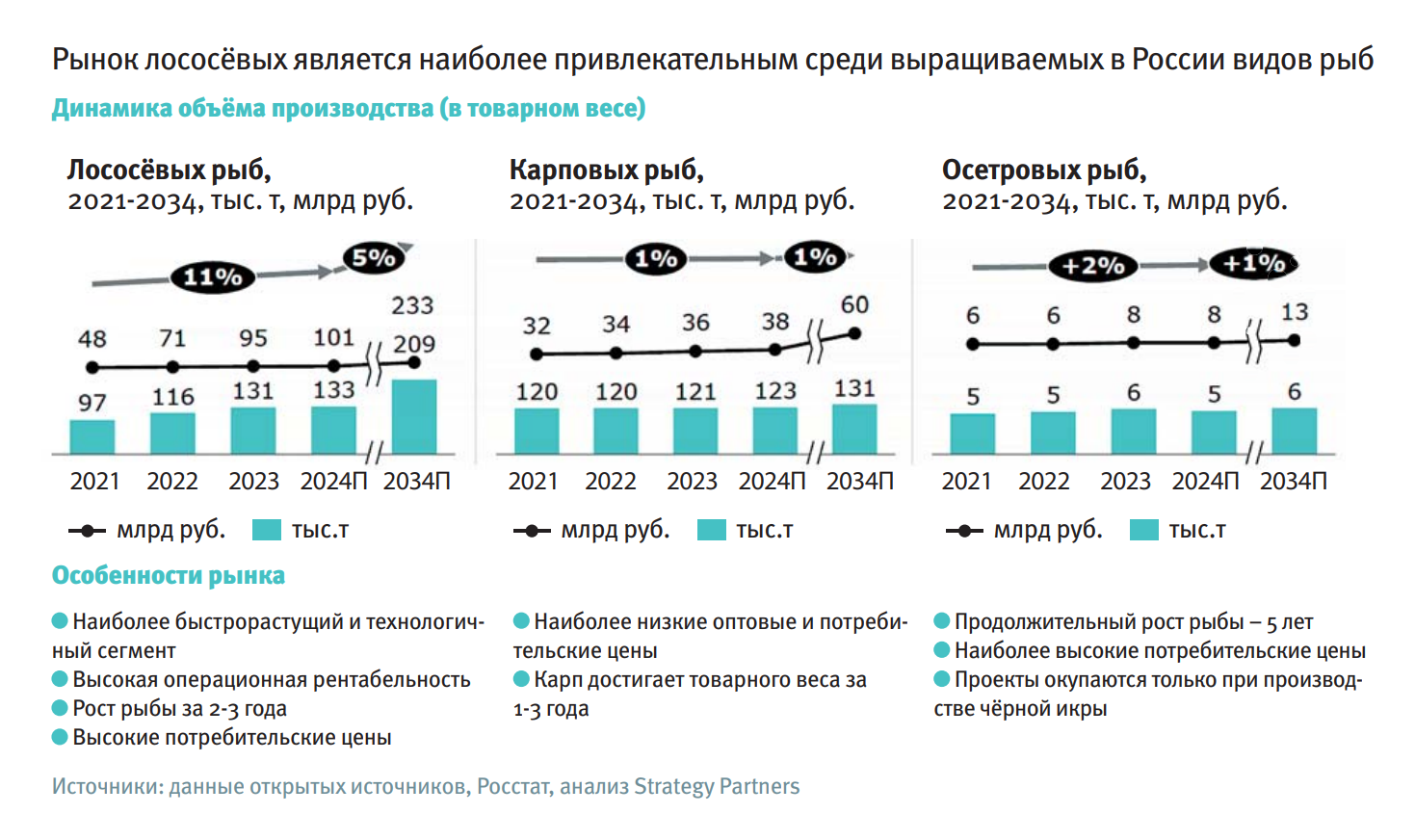
Содержание 150 или 300 семей уже само по себе требует больших затрат, а нужно ещё держать в уме необходимость в дальнейшем секвенировать геномы и искать генные маркеры, продолжает эксперт, обращая внимание на то, что специалистов в этой сфере в стране немного. «Подобные генетические исследования — это огромный объём работы, требующий большого оборотного капитала и квалифицированных специалистов-генетиков. Ни одна маленькая компания такого себе позволить не может. В итоге генетические центры в России пока, к сожалению, не способны дать маточные стада, которые удовлетворили бы качеством нашего потребителя», — сожалеет Алексей Мышкин.
Ситуацию следует менять комплексно, полагает он: создать в стране одно крупное хозяйство с большим количеством семей (с определёнными характеристиками), и на их основе формировать репродукторы с маточными стадами для кроссирования, что позволит получать икру качества не хуже зарубежного. «Над этим в том числе работает наш институт. Мы уже собрали генетические образцы практически всех рыб, которые с икрой заходили в нашу страну, и у нас уже есть определённые схемы генетических маркеров, — говорит Мышкин. — Но вопрос, кто будет создавать маточное ядро, остаётся актуальным. Во-первых, нужно найти место, где поместятся 150-300 семей (для содержания маточных стад хозяйство должно быть всё-таки достаточно большое). А, во-вторых, чтобы проводить анализирующее скрещивание, необходимо огромное количество анализирующих ёмкостей — около 300-400 маленьких бассейнов. В итоге получается гигантское хозяйство, а ведь ещё потребуется лаборатория, где стоят секвенаторы и работают профессиональные генетики. Представьте себе сумму, во сколько обойдётся ежегодное содержание такого хозяйства».

Качество рыбопосадочного материала
От качества рыбопосадочного материала в целом зависит успех хозяйства: будет ли рыба хорошо расти, достигнет ли товарного веса, окажется ли в целом жизнеспособной. 2024 год оказался с этой точки зрения крайне неудачным. Олег Кашкарёв, руководитель направления рыбных кормов компании «Лимкорм Групп», поделился, что практически все рыбоводы, покупающие у них корм, были недовольны рыбопосадочным материалом, и недорост, и кризис прошлого года связывают именно с рыбопосадочным материалом: «Рыба в хозяйства завозится из разных источников. Рыбоводы это понимают и наблюдают, какой рыбопосадочный материал выживает, а какой гибнет, какой растёт хуже, какой лучше — и сами делают выводы, но, к сожалению, уже после, а не до поступления к ним рыбопосадочного материала».
К счастью, отмечает специалист, сейчас рыбные хозяйства стали, всё-таки в первую очередь обращать внимание на посадочный материал, а не обвинять сразу, как в прошлые годы, производителей кормов. «Мы приветствуем, чтобы наши клиенты кроме нас работали ещё минимум с двумя-тремя производителями рыбных кормов. Ведь если масштабная проблема связана с плохой водой, эпидемиями, болезнями и прочим, то она в любом садке, при любом корме обязательно скажется на рыбе. А в случае, когда в хозяйстве используют корма нескольких производителей, можно понять сразу: причина не в них, а в чём-то ещё», — объясняет Олег Кашкарёв.
По его словам, качество кормов проверить просто: на его предприятии хранятся все пробы до истечения срока годности. «При возникновении проблемы мы изучаем среднюю пробу партии и просим прислать образцы корма из хозяйства на случай неправильного хранения или других моментов. В 99,9% случаев на некачественный корм нет и намёка. Ну а дальше нужно как можно быстрее реагировать на ситуацию. У нас есть специалист, который может посоветовать хозяйству, в какие лаборатории и исследовательские институты стоит обратиться. Ведь это наша общая проблема. Поэтому, если нужно, мы выезжаем и совместно решаем вопрос. Если мы сейчас не поможем своему клиенту, в следующем году просто некого будет кормить», — заключает Олег Кашкарёв.
Бизнес на угоне форели
Ещё одна проблема, с которой столкнулись рыбоводы, носит криминальный оттенок.
В рыбоводческих российских регионах сложилась крайне неприятная обстановка для форелеводов, способная привести к катастрофе. Речь идёт о нашумевших массовых «побегах» форели из садков, и эта история не столько о бесхозяйственности рыбоводов, обиженных работниках и плохом оборудовании (хотя и такое случается), сколько о криминальном заработке.
Так, региональный представитель компании «Сиббиоресурс» Михаил Ульянов рассказал, что массовый угон форели — укоренившееся в Карелии явление: «Есть группа лиц, которая построила бизнес на ловле ушедшей из садков рыбы. Сначала они выставляют сети, потом режут или скидывают дели — и в течение 2-3 дней получают большие уловы и продают их с дисконтом. Это бизнес. Они зарабатывают так не первый год и вряд ли остановятся». Рыбоводы примерно представляют, кто входит в преступную «группу лиц», но решения пока нет — нужно подключать руководителей региона.
Работают профессионалы, продолжает Михаил Ульянов, поэтому организация охраны не помогает. «За последние полгода на Ладоге пострадали по крайней мере три хозяйства. И, надо сказать, уровень “мастерства” профессионалов впечатляет. Недавно, около Нового года, был случай в нашем хозяйстве в Карелии. С открытой Ладоги приехали люди с альпинистским снаряжением. Медленно спустились по скале, переоделись в гидрокостюмы, потом проползли по садкам, порезали их — и так же аккуратненько ушли. Когда посмотрели видеозапись, то даже не с первого раза поняли, что произошло — настолько всё было сделано чётко, красиво и профессионально».
Разбираться с ситуацией нужно на законодательном уровне, уверен Ульянов, причём, решать вопрос кардинально. Чтобы у людей не было возможности вылавливать угнанную рыбу — вводить огромные штрафы или помогать хозяйствам побороть эту вакханалию. Но пока поддержки от властей пострадавшие рыбоводы не получают, побеги ведут к прямым убыткам хозяйств, то есть к закупке посадочного материала и повторному выращиванию рыбы. И с большой вероятностью такие случаи будут повторяться.
Но ловят рыбу не только непосредственно «криминальные бизнесмены». Случается, что и СМИ непреднамеренно рекламируют незаконную рыбалку. «После Нового года, когда в одном хозяйстве ушла рыба, о происшествии показали сюжет на федеральном канале, и лозунгом сюжета было “Приезжайте в Карелию ловить сбежавшую форель!”, — возмущается Михаил Ульянов. — То есть вместо порицания дали рекламу, а ведь в такой беде хозяйствам нужна помощь государства — и не только финансовая, но и законодательная. Если людям не дадут ловить рыбу, то и садки будут резать меньше. К “халявному" быстро привыкают, а если бездействовать, то к “бизнесменам”, которые выпускают рыбу, могут добавиться ещё и новые».
«Вот мы, например, производим корма, — добавляет Дмитрий Лукьянов, RnD-директор компании «Сиббиоресурс». — А если мы захотим заняться рыбоводством? Разве возможно заходить в Карелию, если понимаешь, что не будешь защищён как инвестор? Как можно на таких условиях привлекать инвестиции из других регионов? Для меня это дико. Придёшь, вложишься в производство, будешь два года выращивать рыбу, а на третий год тебя оберут — и ничего не сделаешь».
В свою очередь, ихтиолог Дмитрий Аршавский напомнил, что эта проблема остро стояла ещё десять лет назад. Отсутствие законодательной базы, которая защищала бы рыбоводов от подобного рода эксцессов, способствует практически полной безнаказанности людей, занимающихся ловлей «ушедшей» рыбы, говорит эксперт. Тогда как решение в законодательном плане достаточно простое и заключается в организации запрета вылова вокруг границ каждого рыбно-промыслового участка, скажем, в километровой зоне. Но, к сожалению, власти карельского региона законодательных инициатив в защиту рыбоводов не проявляют, сожалеет Аршавский.
Противники аквакультуры
Как это ни удивительно, у аквакультурной отрасли есть свои идеологические противники. В первую очередь, для них это экологический, природоохранный подход, поясняет Алексей Мышкин, руководитель филиала по пресноводному рыбному хозяйству ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО». С одной стороны, действительно, рыба выделяет через жабры азотно-фосфорные соединения — это определённый загрязняющий элемент. Но, с другой стороны, в УЗВ и в крупных современных хозяйствах ставятся очистные сооружения, и зачастую сбрасываемая вода оказывается чище той, что поступила в хозяйство. Однако всё ещё недостаточно чистой для закона, замечает эксперт. «Согласно нашему законодательству, сбрасываемая вода не должна выходить за нормы, прописанные в ГОСТе. Но зачастую этот ГОСТ просто невыполним: даже термальные скважины, из которых мы набираем воду, не соответствуют ему по содержанию железа. Так вот: мы используем несоответствующую ГОСТу воду, очищаем, обеззараживаем и сбрасываем её обратно в реку чище, чем брали — и всё равно платим за превышение норм ГОСТа повышенные тарифы», — недоумевает эксперт.
Удивительно, но, если сравнивать российские нормы с европейскими, то окажется, что в России они значительно жёстче. «Я был в Дании во многих хозяйствах, — рассказывает Мышкин. — Воду они должны сбросить по качеству такую же, какую брали. Их мониторят круглый год, проводят суточные наблюдения и пересчитывают собранные за год показатели. В результате становится понятно: летом они сбрасывают воду чище, а зимой чуть грязнее, поскольку в это время и растения, и бактерии работают медленнее, чем летом. Главное, чтобы усреднённый годовой выброс не был грязнее, чем забираемая вода. В России же неважно, какую мы воду берём — в любом случае мы должны сбрасывать её по ГОСТу, соответствия которому в природных водоёмах уже в принципе нет. Это, конечно, возмущает, но ничего не поделаешь: мы очищаем воду не для “экологии”, а для того, чтобы рыба жила».
Если говорить про садковые хозяйства, то они расположены на водоёмах. А водоёмы имеют свойство «переваривать» загрязнения, самоочищаться через донные отложения, через фильтр планктона. «Здесь тоже интересен европейский пример, — рассказывает Мышкин, — если в России рассчитывается естественная способность водоёма к регенерации, то за рубежом выдаётся разрешение не на количество разводимой рыбы на водоём, а на количество корма с определёнными показателями азотно-фосфорного выброса. Скажем, рассчитывают норму на конкретный водоём и указывают, что в нём допускается скормить, условно, 100 тонн корма. А сколько вы рыбы вырастите на дозволенном количестве корма, уже никого не касается. Ограничение заставляет владельцев использовать корм с меньшим кормовым коэффициентом, на котором они смогут за данный промежуток времени вырастить как можно больше рыбы. Соответственно, такой корм будет давать меньше загрязнения. У нас же всё происходит по-другому: ограничений в этом аспекте пока нет, а потому мы (в определённой степени) не считаем ни корм, ни рыбу, и не особенно следим за загрязнением водоёма, пока оно не станет чрезмерным. Словом, если разобраться, то параметры известны, просто их нужно рассчитать, принять, сколько на конкретный водоём допустимо использовать корма — и тогда не будет никакого вреда окружающей среде. А про УЗВ можно вообще не говорить — это самая технологичная, "зелёная" установка».
Есть претензии у противников аквакультурной отрасли и к качеству рыбы. Однако претензии эти необоснованные, поскольку опираются не на исследования и реальную ситуацию, а на слухи и «общественное мнение», полагает Алексей Мышкин. Если выращивать рыбу в загрязнённой воде с тяжёлыми металлами и токсинами, то, конечно, они будут накапливаться в рыбе тем больше, чем рыба там находится, рассуждает он. Если же говорить о рыбе, которая выращивается в родниковой воде — скажем, в горных речках Осетии, в чистых карельских озерах, или в УЗВ, где вода обеззараживается озоном и после этого становится чище, чем питьевая, то она успешно пройдёт любые лабораторные анализы. Более того, мясо аквакультурной рыбы благодаря сделанным по ГОСТу качественным кормам обогащено омега-3 жирными кислотами (докозагексаеновой и эикозапентаеновой) в таком количестве, какого даже пресноводная рыба, например, тот же осётр, в диких условиях никогда бы в себе не содержала. «С помощью наших кормов мы можем сделать не просто диетическое мясо, а очень полезное для здоровья. Это в наших руках и в руках рыбоводов, которые выбирают корм. Многие рыбоводы говорят, что используют высококачественный рыбный жир и тщательно контролируют содержание в корме докозагексаеновой и эикозапентаеновой полинасыщенных жирных кислот. Значит, выращенная на отечественных кормах рыба будет не просто вкусная и диетическая, но и очень полезная для здоровья — и при этом не будет особенно отличаться от самой полезной дикой выловленной рыбы. Люди часто выражают неприязнь к аквакультурной рыбе. Конечно, можно вырастить плохую и вонючую рыбу: например, если не использовать в УЗВ то же самое озонирование, то там накапливается геосмин. Никакого вреда он не приносит, а даёт просто неприятный запах, который мы называем "тинкой". Но и садковые хозяйства, когда они обрастают геосминами, если садки вовремя не чистить, тоже будут придавать несколько тинистый запах форели. Всё это — уровень культуры и ответственность рыбоводов», — заключает эксперт.
О том, что вопрос угона рыбы не решён, и садковые хозяйства разных регионов давно сталкиваются с рыбаками-подводниками, подрезающими садки, говорит и Алексей Мышкин, из ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО». В Астрахани, например, такое было очень распространено, пока хозяйства не стали огораживать садки металлическими загородками, чтобы подводные охотники не могли подплывать, рассказывает эксперт. Однако полностью это явление искоренить сложно. «Я бы назвал умышленным вредительством, когда люди по каким-то мотивам режут садки и рыбу выпускают, — и жаждой наживы, когда садки режут из корыстных целей».
Тем не менее, несмотря на существующие проблемы, российская аквакультурная отрасль претерпевает положительные глубинные изменения, отмечают эксперты. Лишившись привычных зарубежных решений, участники отрасли были вынуждены начать заново выстраивать логистические цепочки, восстанавливать забытые технологии и налаживать кормопроизводство. Дело идёт, но для того, чтобы отрасль получила полноценное развитие, в первую очередь, нужно преодолеть внутренние препятствия, в том числе, мешающие формированию аквакультурной ветеринарии, да и бизнеса в целом.






